- к-Беседы
- 11.10.21
«Пандемия показала слабость гиперглобализма»
Петр Мейлахс, старший научный сотрудник Международного центра экономики, управления и политики в области здоровья НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге

Беседа о ковид- и СПИД-диссидентах, обязательной вакцинации и конце гиперглобализма
Как вы отреагировали на начало пандемии?
Петр Мейлахс: Я помню, как появились первые новости о вирусе, тогда никто не обратил на них внимания. Я был за границей: в Берлине с 5 по 17 февраля 2020 года проходила конференция ВОЗ. И даже присутствовавшие на ней эксперты полагали, что новый вирус – что-то вроде птичьего гриппа, то есть не воспринимали его достаточно серьезно. А в марте новости о коронавирусе, карантинах захватили уже всех. Было жутковато, я чувствовал, как ломается картина мира. Впрочем, поскольку я академический работник, моя жизнь изменилась не сильно. Правда, я заболел. Почувствовал себя плохо 30 декабря 2020 года, поэтому 31 декабря провел дома один – это был «лучший» Новый год в моей жизни.
Диссиденты или сомневающиеся
С начала пандемии прошло уже около полутора лет, появилось несколько вакцин. Но россияне относятся к прививочной кампании крайне сдержанно.
Петр Мейлахс: Я удручен такой реакцией наших граждан. В одной широко цитируемой статье1 о намерении вакцинироваться, опубликованной в журнале Natural Medicine в 2021 году, говорится, что в 10 странах со средним и низким доходом готовность вакцинироваться – 80%, в США – 64%, в России – лишь 30%. По этому показателю мы находимся на первом месте – у нас наиболее низкий процент людей, которые изъявили желание вакцинироваться. И это для меня удивительно. Мы смотримся гораздо хуже, чем, например, Буркина-Фасо, где желание вакцинироваться выразили около 65%, или Руанда с ее 80%. Это, конечно, национальный позор.
Такая реакция скорее ситуативная или она демонстрирует сложившиеся убеждения части россиян о вакцинации?
Петр Мейлахс: Для меня очевидно, что нежелание вакцинироваться никоим образом не сводится к ковид-диссидентству. Ряд исследований, в том числе опрос, который проводил наш Центр2, показали, что многие из тех, кто не хочет вакцинироваться от ковида, вакцинировали своих детей от других болезней. Это значит, что у них нет предубеждения против прививок как таковых. Они нормально относятся к ним, но не к вакцинам против COVID-19.
Чем, по вашему мнению, объясняется подобное отношение?
Петр Мейлахс: Многими факторами, и мы сейчас их исследуем. Но в том числе и нежеланием подчиняться принудительным мерам. В этой связи расскажу об исследовании СПИД-диссидентства. В нем можно найти параллели с вакцинацией против ковида. Сначала мы изучили аргументацию в интернет-сообществах СПИД-диссидентов, например заявления о мировом заговоре биг-фармы и недостатке научных данных об антиретровирусной терапии. В начале качественных интервью со СПИД-диссидентами мы полагали, что убеждения в духе теории заговора и определяют то, почему люди становятся диссидентами и отказываются принимать антиретровирусную терапию. Но, к большому удивлению, мы обнаружили, что многие информанты просто не понимали, зачем им принимать терапию при хорошем самочувствии. Они рассуждали так: если хорошо себя чувствуешь, зачем травить себя химией, да еще и плохо изученной, а потом страдать от побочных эффектов. К слову, чем лучше изучен препарат антиретровирусной терапии (да и любой другой), тем больше известно о его побочных действиях, а терапия против ВИЧ изучена очень хорошо. Поэтому, прочитав в аннотациях к препаратам о побочных эффектах, наши информанты прежде всего заботились о том, как избежать терапии. Они знали, что от СПИДа рано или поздно умирают, но не хотели менять свой образ жизни, начинали искать обоснования для своего отказа от лечения, чтобы устранить когнитивный диссонанс, и в конце концов становились СПИД-диссидентами.
Можно предположить, что и в ситуации с ковидом многие люди просто не захотели менять свой образ жизни (терпеть ограничения, связанные с социальным дистанцированием, ношением масок и т. п.). Используемые ими оправдания такого подхода варьируются от идеи чипизации и других теорий заговора до тезиса о недостаточной изученности вакцины. Таким образом, мы видим, что многие корона- и вакциноскептики отстаивают то, к чему они привыкли, свой образ жизни. То есть все эти теории заговора на самом деле мало чего стоят, они вторичны, первично другое – нежелание проходить терапию или вакцинацию.
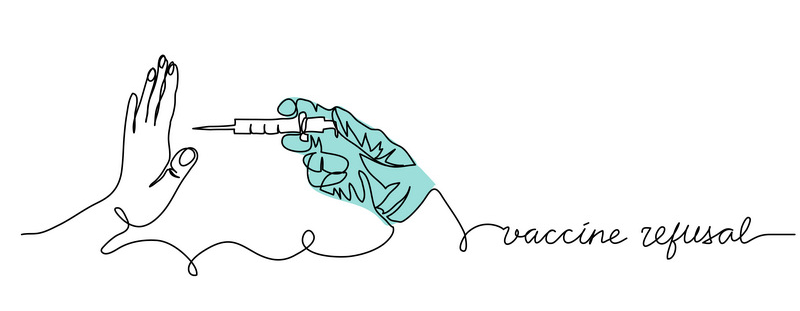
Кажется, что почва для различного рода альтернативных представлений о ковиде была даже более плодородной, чем в случае со СПИД-диссидентами.
Петр Мейлахс: В этой связи тоже есть интересная параллель, связанная с научной неопределенностью. В нашем исследовании СПИД-диссидентов мы наблюдали следующее: в дискордантных парах (когда один партнер – с ВИЧ, а другой – нет), практикующих незащищенный секс в течение достаточно длительного периода, иногда несколько лет, не так уж и редко передачи ВИЧ не происходит. При этом у партнера с ВИЧ вирусная нагрузка может снижаться, а иммунный статус расти без всякого лечения. Это тоже ставит людей в тупик, и они идут к врачам с вполне рациональными и понятными вопросами, но нередко не получают от них внятных ответов. И потом, как следствие, они начинают искать информацию в Сети, заходят на СПИД-диссидентские сайты, где утверждается, что ВИЧ не существует. И некоторые попадают в ловушку СПИД-диссидентства. СПИД-диссиденты – часто не какие-то обезумевшие фрики, помешавшиеся на теории заговора, а люди, которые задавали рациональные вопросы, но вместо ответов получали директивное указание: «Иди и пей таблетки, а думать должны мы, медицинские специалисты!» Диссидентов гораздо меньше, чем людей, которые являются вакциноскептиками, то есть сомневающимися в предлагаемых мерах и ожидающими достоверных данных о болезни и ее лечении.
Что касается ковида, тут неопределенность несопоставимо бо́льшая, чем с ВИЧ. Так же, как СПИД-диссиденты, многие ковид-диссиденты задавали рациональные вопросы, но не получали на них адекватных ответов. В то время как медики и чиновники указывали на неграмотность людей в вопросах гигиены и защиты, люди видели, что распространенные эпидемиологические модели не работают (например, знаменитая модель математика Нила Фергюсона, согласно которой при отсутствии жестких карантинных мер еще в первые недели с начала пандемии в одной только Англии должно было умереть более полумиллиона человек, а в США – более двух миллионов), эффективность масок неочевидна, а прикосновение к поверхностям безопасно.
Об обязательной вакцинации
Нежелание подчиняться вводимым мерам может быть связано не только с образом жизни, но и с непринятием этих мер как таковых, в силу убеждений.
Петр Мейлахс: Совершенно верно. Мы видим повсеместные ограничения личностных свобод. Власти медленно закручивают гайки. Это многих беспокоит. При этом никого силой не принуждают вводить вакцину и даже штрафы не выписывают за отказ вакцинироваться, просто делают жизнь невакцинированных все сложнее. Поначалу личные свободы стояли на первом месте: у нас и во многих других странах было некое табу на обязательную вакцинацию. Но сегодня табу не работает: даже страны с высоким уровнем вакцинации, как Франция, постепенно делают ее обязательной. Во всех странах спорят об эффективности и правомерности вводимых правительствами мер, но дискуссия по этому поводу, мейнстримная по крайней мере, ведется уже не в терминах возвращения фашизма или немыслимого ограничения личных свобод, а в терминах безопасности других людей, прежде всего – уязвимых групп, таких как пожилые люди.
Лично я поддерживаю обязательную вакцинацию, особенно в Российской Федерации. Появился новый штамм – «Дельта», более опасный, чем предыдущие. Гипотетически, мы вполне можем представить появление в обозримом будущем еще более резистентного и убойного штамма. Чем больше мы медлим с вакцинацией, тем больше вероятность, что когда-нибудь такой штамм действительно возникнет.
Конечно, я не хотел бы, чтобы людей заставляли вакцинироваться. Если человек хочет и готов отказаться от некоторых благ, он имеет на это право, но только в том случае, если это не угрожает другим. Как мы знаем, свобода одного кончается там, где начинается свобода другого. Но одно дело, скажем, когда человек захотел жить в лесу на самообеспечении, а другое – когда невакцинированный или без маски ходит на работу. Тут он в каком-то смысле распоряжается здоровьем и жизнями других.
Штрафы как мера у нас вводились в начале пандемии, но от них быстро отказались, да и последующие меры не были очень жесткими. Возникает вопрос: есть ли у властей возможности для их ужесточения?
Петр Мейлахс: У нас работает селективное правосудие, или селективные карантинные меры, когда одни мероприятия разрешаются, а другие, часто малочисленные, но оппозиционные, запрещаются. При этом располагая самым мощным в мире аппаратом принуждения, наша власть демонстрирует отсутствие политической воли, не обеспечивая соблюдение необходимых сегодня эпидемиологических мер. Российские власти не захотели мобилизовать ресурсы, чтобы принудить каждого в метро носить маску – был референдум, выборы, и они не хотели злить людей. Да и сейчас не хотят. Мы взяли худшее от двух систем: от авторитаризма – отсутствие политических свобод, а от демократии – популизм.
Конец эпохи
Какие изменения, произошедшие в мире из-за пандемии коронавируса, вы выделяете?
Петр Мейлахс: Деглобализацию. Любые кризисы усиливают тенденции, которые существовали до них. Это произошло и с деглобализацией, которая началась до пандемии, особенно ярко проявилась в Брекзите, избрании Дональда Трампа президентом США, кризисе беженцев, но с началом пандемии проявилась в том, что страны Евросоюза поспешили закрыть границы, забаррикадироваться друг от друга. Вот вам и «мир без границ». Закончилась эпоха, которая длилась с 1989 года. Тогда все думали, что нас ждут конвергенция демократических систем, неуклонное расширение прав человека и международная глобализация. Этого не случилось. Главным образом, потому что в результате глобализации оказалось слишком много проигравших в западных странах и слишком много выигравших – в незападных, прежде всего в Китае. Дональд Трамп оказался не исторической аномалией, а началом новой тенденции. Посмотрите на продолжающийся конфликт США с Китаем, трансформацию когда-то аксиоматического понятия «свободная торговля» в понятие «справедливая торговля».
Кроме того, в ходе этой пандемии мы убедились, что в достаточно острой, но все же не самой критичной ситуации, какую можно себе представить (все-таки не чума и не большая война), суверенное государство тут же возвращает свои права. Национальное государство, как гоббсовский Левиафан, оказалось единственной международной единицей, пусть и очень несовершенной, на которую граждане могут положиться в трудную минуту. Государства, которые недавно декларировали принципы универсальных прав и гуманитарной поддержки как основополагающие, сейчас приберегают вакцины для своих граждан и ни с кем делиться не хотят.
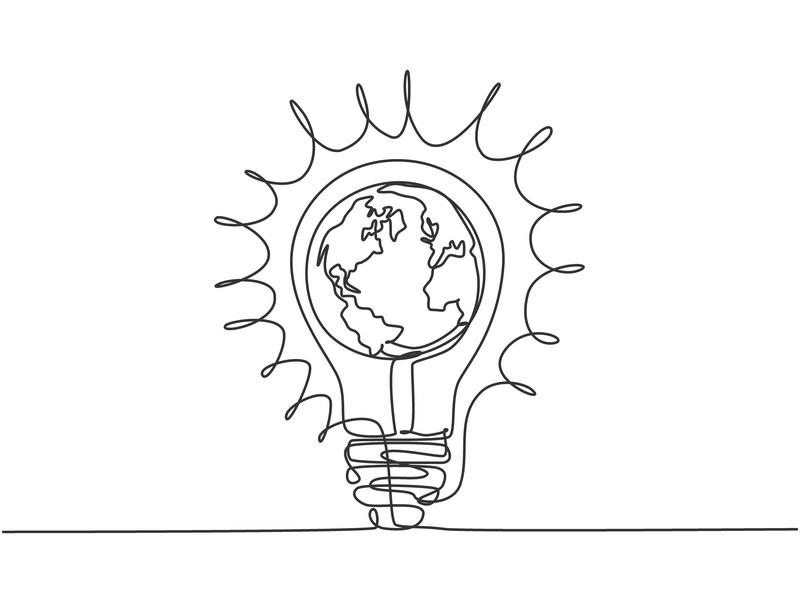
Конечно, многие обществоведы давно знали, что уход от национального государства – утопия. Теперь мы все в этом убеждаемся. Пандемия показала слабость гиперглобализма, в частности то, насколько хрупки и ненадежны глобальные наднациональные образования, такие как ЕС, ВОЗ, ООН, и насколько опасна слепая вера в свободный рынок, который будто бы все расставляет по своим местам. Трудно себе представить, что национальные государства, например, будут полагаться в обозримом будущем на то, сколько масок им пожелают сшить и продать в Китае и странах Юго-Восточной Азии. Кроме того, пошатнулось господство дискурса прав человека (кстати, понимаемого весьма избирательно, как права определенных групп), которому не просто подчинены все другие дискурсы (например, дискурсы безопасности и ответственности), но и отводится исключительное право на существование. Вполне вероятно, что такая гиперлиберальная модель общества3 уходит надолго, возможно, навсегда. После периода опьяненности человечества гиперлиберализмом и гиперглобализацией наступает некое отрезвление. Отрезвление, хоть оно и сопровождается похмельем, головной болью, всегда полезно, потому что позволяет жить в реальном мире.
_________________
1 COVID-19 vaccine acceptance and hesitancy in low- and middle-income countries
2 Международный центр экономики, управления и политики в области здоровья НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге.